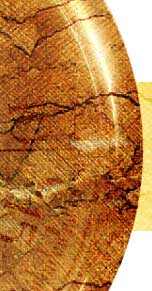Как профессор Ручкин нажил себе врага
Спорить с начальством – это всё равно, что выплеснуть помои из ведра против ветра: всё вернётся на тебя же!
Первое моё знакомство с Мацкевичем Александром Петровичем произошло в 30-х годах и уже заложило чувство недоверия к нему. Дом в городе, где я жил, был занят какой-то организацией; пришлось обратиться к директору ОмСХИ за помощью. Однако Мацкевич не захотел помочь; он сказал хозяйственнику: «Предложите ему комнату – он наверняка откажется!»
Позднее его чёрствость опять проявилась. Это было уже в военное время. При разгрузке дров из баржи я имел возможность получить два кубометра. Транспорта не было, пришлось нам с женой везти их на саночках, а расстояние было около четырёх километров. По дороге Мацкевич с женой (она уже была аспирантка при моей кафедре) обогнал меня на лошади и… помахал ручкой.
Итак, 12 августа 1941 года, вскоре после начала войны я встретился с Мацкевичем; он был назначен директором ОмСХИ вместо взятого на фронт Чернухина. Он сразу «обрадовал» меня: «Я отпустил вам 10 тысяч рублей на оборудование переработочного пункта на Учхозе № 2, а в помощь даю Софью Борисовну Рапопорт (его жена)». Я был удивлён, так как все мои попытки построить там пункт закончились неудачей. Кажется, я даже не поблагодарил его… и был прав, поскольку это было лишь пожелание. Рапопорт была моей аспиранткой до войны; недавно аспиранты на время войны были отозваны. «Софочке» грозила мобилизация в колхоз, но её оставили «до выяснения положения Мацкевича». Ну, а теперь он сам распорядился!
В 1943 году после окончания научной конференции (с 24.02 по 01.03) состоялось торжественное заседание, посвящённое 25-летию Сибаки. Я проработал здесь с небольшим перерывом 25 лет и, слушая доклад Мацкевича, пожалел, что не записывал событий: в докладе директора многие из них получили неправильную оценку. М.П. Долинино-Иванская спросила нас с Ласкиным, правильно ли докладчик приписал проф. Г.Г. Петрову организаторский талант. Мы отвечали, что Гаврила Гаврилович совершенно не обладал организаторскими способностями. Он был выбран ректором из-за отсутствия другого подходящего профессора. За него работал крупный чиновник старого времени Н.И. Грибанов. За Петровым остаётся лишь постройка вегетационного домика.
В апреле этого года я с увлечением писал свой новый учебник, так как до сих пор была дореволюционная дисциплина «Сельскохозяйственная технология», где о хранении ни звука. Рапопорт перепечатывает на машинке и штудирует к будущему экзамену. Профессор И.П. Попов её ненавидит и собирается поднять вопрос о ненаучности диссертационной темы «Различные способы переработки сибирских ранеток». Тема важная, так как яблочки мелкие и их, в общем, много, а девать колхозам некуда. Декан проф. Стольгане тоже иронически поздравил меня с… приобретением, но утешил: на приёмном экзамене она провалится, так как биохимии не знает. «А вы, – прибавил он, должны помочь ей в этом». Это на него похоже – эзопов язык!
19.10.43. Всё труднее и труднее жить. Управделами спрашивает: «Да есть ли у нас Институт?» Вопрос закономерен; ответ должен бы быть отрицательным, но ведь тянемся – сохраняем его! Занятия идут плохо, ютимся по холодным, грязным клетушкам, качество преподавания низкое (оторванность от литературы при отсутствии информации), наукой занимаемся больше для вида.
Точно не помню когда, но в это время была восстановлена аспирантура. Можно было отказаться от Рапопорт, так как я уже достаточно убедился в её непригодности, но я… смалодушествовал. Как откажешь, если это жена директора?! Иначе бы мне пришлось уйти из ОмСХИ. В конце концов, не я же её выбрал; её мне сосватал И.И. Агроскин, наш бывший директор. Он как-то остановил меня и сказал: «Мы ищем декана, все нити ведут к вам». Я категорически отказался. Он стал соблазнять меня: мол, мы вам дадим аспирантов – это почётно! От деканства я всё-таки отказался, а аспиранта мне дали.
Понятно, что я переживал ситуацию; мне казалось, что я совершил преступление, допустив Софью Борисовну в научные работники. Она хотя и окончила ОмСХИ, но ничему не научилась и потеряла последнюю грамотность, но зато приобрела апломб и самоуверенность. Моя лаборантка Ушакова, женщина с высшим образованием, конечно, знала Рапопорт лучше меня, каждодневно сталкиваясь с ней на практических занятиях. «Да бросьте, Василий Николаевич, вашу щепетильность, пусть она будет у нас, иначе кафедра вообще ничего не получит, а у вас лишняя неприятность». Я последовал совету. Тактика, предложенная Ушаковой, оказалась действенной: у меня довольно сносное помещение, хозяйственные требования кафедры выполняются. Но, увы, нервозность моя не уменьшается: Софья Борисовна, проводя занятия со студентами, всё время подбегает за разъяснениями, не желая сознаваться, что не знает, не приготовилась. Вместо этого, выслушав меня, она замечает: «Ну, так я им и объяснила».
В декабре 1943 года Софья Борисовна готовилась к экзамену по специальности. Она ничего не сумела найти в книгах, и я нашёл ей и показал. Но даже после подготовки она ничего не смогла сказать на экзамене – она не знала самых элементарных вещей по основам биологии, биохимии и технологии хранения сочных продуктов (а ведь она окончила плодофак!). Три убелённых сединами профессора, не сговариваясь и не смотря друг на друга, поставили «посредственно». Всё же Софья Борисовна поняла ситуацию и попросила: «Быть может, вы предложите ещё вопросы?» А.А. Стольгане задал ей вопрос из её диссертационной работы, но так и не дождался ответа.
18.03.44. В Софье Борисовне я нажил себе врага. Но что я мог сделать, если она такая беспросветная дурь? В последнее время она обнаглела так, что я просто не мог сдерживаться. Я попытался снаивничать: используя приказ по Высшей школе написать отзывы об аспирантах, я дал ей отрицательную характеристику. Это было для всех неожиданностью, но не потому, что не знали наших отношений, а думали, что я не решусь на такой (увы, запоздавший) шаг. Она сделала контрход и обвинила меня в ряде преступлений, в частности, в антисемитизме. Но, видимо, ей посоветовали снять это последнее; я видел другое, где она пишет, что я плохо проверял её перед экзаменами, что она не получила помощи и сама подбирала литературу.
21 марта Мацкевич, чтобы реабилитировать жену, назначил комиссию по проверке моей кафедры «на предмет выяснения взаимоотношений между аспирантами и руководителями». Около шести часов вечера я надел охотничьи сапоги и пошёл пешком из города в Институт. Сырость сверху, мокро под ногами, мутные потоки грязи разлились рекой… Комиссия в составе проф. Стольгане, проф. Кулешова и председателя месткома Самсонова заседала в кабинете директора. Мне уже передали, что первоначальный вариант из лиц, имеющих основание быть мною недовольными, провалился. Я начал с вопроса: «Когда аспиранты почувствовали ненормальность в моём руководстве?» «Нет, нет, – отвечали мне, отношения были вполне нормальными». Тогда я категорически опротестовал формулировку приказа. Мой аспирант Воропаев отметил полное благополучие, а Рапопорт в своих обвинениях вела себя наивно. Неожиданность характеристики аспирантки я объяснил тем, что приказ из Главка понял в прямом смысле. Я позлорадствовал, задав комиссии сложную задачу – ведь ей нужно было вынести решение иезуитское, чтобы не обидеть Мацкевича с женой и приемлемое для Главка.
Через неделю я прочёл протокол; в нём хотя и указано, что работа аспиранта Рапопорт не была нормальной, но значительная часть вины возложена на меня. В общем, директору дана возможность не отчислять жену в производство. Улыбаясь, я спросил декана: в чём же моя вина конкретно? Ответ Стольгане меня не удивил (все мы люди подчинённые): «Конечно, вы правы, но официально не правы!» Да и зачем мне нужно было затевать всю эту кутерьму? В душе я признавался, что надо было в своё время категорически убрать её. Но это значило уйти из ОмСХИ, а на это я не мог решиться.
В июне 1945 года Софья Борисовна пишет диссертацию. Безнадёжный человек! Но я, памятуя данный мне урок, всемерно помогаю ей. Подозреваю, что она «исправила» цифры анализа, подогнав их для своих выводов, но доказать не могу – она не подчинилась моему требованию показать свои черновики. Уже за это я обязан был передать дело в ректорат. Но кому? Её мужу?!
В начале июля я написал бесцветный отзыв, но сама Софья Борисовна убеждена, что диссертация у неё прекрасная. Даже когда оппонент вернул ей рукопись для исправления, она самоуверенно заметила: «Ну, исправления маленькие – лишь время затягивают!» На мой совет хорошенько проштудировать о витаминах, так как по ним вопросы всегда бывают, она бросила: «Да ну – и оппонент в них плохо разбирается, как я убедилась». Мацкевича на защите не будет – уезжает в Москву. Встретившись со мной, он заговорил о защите мною моего учебника (в качестве докторской диссертации) и обещал поговорить; я вспомнил о 10 тысячах и… поблагодарил на этот раз.
Защищала Софья Борисовна свою работу очень плохо: выучила выступление наизусть и оттараторила его без выражения. Перед защитой проконсультировалась со мной, как отвечать рецензентам; да и на защите мне пришлось по её просьбе написать ответ на вопрос проф. Мурашкинского (ничего не могла придумать). Результаты: 17 «за» и 7 «против». Я сразу ушёл домой. Потом мне говорили, что она ждала от меня поздравления. Бывают же такие…
18.11.1945. Знаменательные дни! Сибака возвращалась в свои помещения. Работают все, даже старички. А как приятно было вчера читать лекцию в просторной, относительно тёплой аудитории: впервые за четыре года без шубы и шапки! Студенты не жмутся к дымной печке, светло, свободно. Преклоняюсь перед победителями, с удовлетворением вспоминаешь, что и мы, тыловики, не сидели без дела. Но свою аудиторию я ещё не наладил, несмотря на некоторую помощь Мацкевича. Конечно, он сделал это для своей Софьи Борисовны, которая, по её словам, насела на него. Супруг сказал: «Сами, делайте всё сами, прибирайте всё, что плохо лежит, а я скажу коменданту, чтобы он содействовал». Из трёх комнат дают пока две, но у меня и эти нечем заполнить, ведь я находился в самых плохих условиях – на «огороде». Всё сопрело, побито, поломано. В самое последнее время мою «кафедру» затопило дождями. Ну ничего, прожили, пережили, сохранили главное – возможность быстрого восстановления. Вперёд!
Увы, моя надежда отвязаться от Софьи Борисовна не сбылась: как-то «естественно» она превратилась из аспирантки в ассистентку.
Январь 1950 года. Идёт взаимопроверка кафедр с целью «помощи» в учебной и исследовательской работе. Мацкевич, когда ему предложили обследовать кафедру Кизюрина, сказал: «Я слишком прямой человек!» Он имел в виду, что у плодоводов не было никакой работы, а не сказать об этом ему было неудобно. А как скажешь, если Кизюрин – персона грата в Сибаке? Меж тем, со слов Мацкевича, «всякая комиссия должна найти недостатки, иначе просто неудобно получится». В самом деле, у каждого из нас имеются промахи – и подчас серьёзные – как в учебном процессе, так и в исследовательской работе. Другое дело, что большинство промахов обусловлено не столько нашими личными недостатками, а самыми простыми, но трудно устранимыми объективными причинами. Основная – это крайне слабая материальная база и в исследовательской работе, и в учебной. Конечно, чаще всего не признавать свои ошибки приходится из-за необъективности членов комиссии.
Так, у меня обратили внимание на исследовательскую работу, бывшую у меня в хорошем состоянии, но на учебную не поглядели даже, а она из-за неграмотности ассистента очень хромала. Наученный горьким опытом, я действительно смотрел на это сквозь пальцы. Но со стороны студентов «сигналы» были. Как-то на занятиях студентка пятого курса бросила мне обвинение: «Зачем вы, профессор, держите эту бездарность – ассистента Рапопорт?» Сначала я опешил – так это было необычно. Затем сообщил по инстанции. Через некоторое время я получил такого же порядка записку от студента Кийко. Да, стало очевидно, что студенты поняли, с кем имеют дело. Обо всём я доложил директору Института, прибавив, что напишу в Министерство. Он ответил, как обычно делают начальники в этом положении: «Не советую, так как всё равно пришлют дело мне». Но я написал, подчеркнув отношение дирекции к моему заявлению и к письмам студентов.
Зная, что в Институте нет ничего тайного и надеясь, что моё письмо будет известно в этот же день всем, я показал письмо М.А. Михайленко (заму по учебной части). Он подал мне умнейший совет – действовать через нового (со стороны пришедшего) секретаря партийной организации товарища Аксёнова. Конечно, я тотчас же пошёл к нему и убедился, что Мацкевич уже информировал его, что «Ручкин не помогал Рапопорт в работе и что он вообще склочник». Однако мне не стоило труда убедить Аксёнова – с помощью документов – в своей правоте.
Рапопорт уже собрала старост тех групп, с которыми, занимается, и проинструктировала их, о чём говорить и как отвечать на предстоявшие вопросы. Всё это вскрыл Аксёнов! Появилась статья в газете «Кировец». Дело дошло до Обкома. На партсобрании читали постановление Обкома по поводу того, что дирекция защищала неграмотного ассистента. Один из партийцев ОмСХИ – Гинц А.С. – заступился за меня, сказав, что пора уже кончать трепать имя проф. Ручкина.
Рапопорт исчезла с горизонта Сибаки и… появилась в Областном Управлении сельского хозяйства в отделе пропаганды. Она и оттуда пыталась доставить мне неприятности, но не преуспела. Понятно, что и на новом месте она оказалась тем, чем была у нас. Она добилась командировки в Новосибирск на совещание по северному плодоводству и выступила там с «актуальной» проблемой – «О значении витаминов». На неё все зашикали и не дали продолжать. Она умерла от болезни сердца. Говорили, что на неё так подействовало поведение её дочери. Софья Борисовна всегда гордилась её безупречным поведением. Увы, однажды дочка принесла внука, не выходя замуж.
И до сих пор Александр Петрович Мацкевич люто ненавидит меня, даже заочно, поскольку я уехал из Омска в 1968 году.